Мои встречи с Гулаевым: журналист Анатолий Белодедов вспоминает о нашем земляке
Новость в рубрике: «Твои люди, земля Аксайская», Даты, Защита ОтечестваУ него я хотел взять интервью, а получил лишь автограф. Зато в квадрате... В светлые майские дни, отмечая очередную годовщину Великой Победы советского народа в войне против немецко-фашистских захватчиков, все мы добрым словом вспоминаем и отдаем дань уважения тем, кто не жалея сил, а зачастую и жизни, спас мир от коричневой чумы. В их числе и многие земляки-аксайчане, которые девятого приходят на площадь Героев.
Названа эта площадь так не случайно. Здесь, на высоком правом берегу Дона, установлен бюст дважды Герою Советского Союза Николаю Дмитриевичу Гулаеву. Именно о моих встречах с ним и хотелось бы рассказать сегодня.
Впервые я узнал о нем в 1957 году, когда нас, солдат срочной службы, после окончания школы младших авиационных специалистов (ШМАС) направили для прохождения дальнейшей службы в Московский военный округ ПВО. Было это где-то в двадцатых числах мая.
Старинный русский город Ярославль встретил нас обилием солнечного света и тепла. После изнурительного переезда, скитания по вокзалам мы все как-то повеселели и совсем уже успокоились, когда, наконец, добрались до штаба дивизии.
Вдруг из двери здания, расположенного напротив, появился крепко сбитый, коренастый, среднего роста полковник с двумя звездами Героя на груди.
Дежурный по штабу, с красной повязкой на рукаве, скомандовал:
– Встать! Смир-н-а-а!
Мы мигом вскочили с земли и стали по стойке «смирно».
– А вы кто такие? – увидев нас и подойдя ближе, спросил комдив.
– Пополнение, товарищ полковник! – вытянувшись в струну, отрапортовал старший группы Николай Ягупец.
– Откуда?
– Из Брянска!
– Значит, от Шияна? Хорошо. Оформляйте документы и в полки. А там, – пообещал, – мы еще встретимся.
Затем скомандовал: «Вольно!» и ушел по своим делам.
– Ну и ну! – подумал каждый из нас. – Не успели приехать и сразу такая встреча!
Оформление документов, распределение по полкам продолжалось довольно долго, хотя и было-то нас всего двенадцать человек. Мы, южане, полулежали на яркой зеленой траве, каким-то необъяснимым образом ощущая запах севера, нехотя глотали немудреный солдатский паек и размышляли: «Как фамилия этого загадочного полковника, нашего будущего высокого начальника, командира дивизии, героя в квадрате?». У всех на слуху были летчики Кожедуб и Покрышкин, ну, Гастелло, еще Маресьев и повторивший его подвиг Захар Сорокин, который выступал перед нами в ШМАСе.
Вроде и спрашивать у кого-то было неудобно. Однако удовлетворили свое любопытство, спросили.
– Да это же Гулаев. Из Ростова. Летчик – ас. 57 немецких самолетов сбил. И жив остался! – с восхищением ответил нам подошедший зачем-то ефрейтор. – Там его и бюст стоит. Заслужил…
В итоге, посмотрев на нас слегка презрительно, с чувством собственного достоинства удалился. А нас распределили по полкам. Николай Дмитриевич не обманул. Он довольно часто бывал в полку, где я проходил службу в составе группы регламентных работ по обслуживанию вооружения истребителей на аэродроме, а затем, после тяжелой травмы, стал писарем инженерного отдела полка. Находясь на этой должности, мне часто приходилось исполнять обязанности дежурного по штабу, носить красную повязку и, как тот тогда в дивизии, громко выкрикивать: «Встать! Смирно!», хотя кроме часового у знамени, который и без команды должен стоять все время по стойке «смирно», в длинном узком коридоре зачастую никого не было: все работали в кабинетах.
Штаб нашего полка располагался в добротном двухэтажном деревянном здании, вне пределов части, в жилом частном секторе в черте города Ярославля, почти рядом с Волгой. Во время «боевых тревог» сюда стекались и все штабисты. Случалось это часто глубокой ночью или перед рассветом. И тогда начинался переполох. Запыхавшиеся от быстрого бега офицеры, включая и старшие чины, как вихри, врывались в свои кабинеты, звонили по телефону, отдавали команды. В такие минуты бывал здесь и Гулаев. Он меня уже узнавал. Выслушав короткий рапорт, широко улыбался и спрашивал: «Чиж (командир полка) на месте?».
– Так точно, товарищ полковник, на месте.
– Тогда порядок. А эти чего кричат? – он показывал на двери кабинетов. – Спокойно надо, спокойно. Криком не возьмешь. Знают же, что не война. Да хоть бы и война!? Спокойно надо. – И как-то быстро подтянувшись, твердым шагом шел в дальний конец коридора, где находился кабинет командира полка.

Встреча на аксайской земле. Слева направо: В.И. Московенко, Герой Советского Союза А.Х. Рой, дважды Герой Советского Союза Н.Д. Гулаев.
/ ФОТО из архива редакции
Случалось мне видеть Николая Дмитриевича и в другой обстановке. В частности, когда в штаб заезжали высшие военачальники. И их неизменно сопровождал наш комдив. Он перед ними никогда не заискивал, держался уверенно, в своих убеждениях был тверд.
Особое впечатление произвел тогда на меня генерал-лейтенант Покрышкин, командующий Московским военным округом ПВО. О его приезде заранее не сообщали, и рабочий день шел своим чередом. Вдруг видим перед окном целую кавалькаду автомашин, красивых, видимо, очень дорогих, доселе невиданных.
Штаб затрепетал. Как мальчик носился по кабинетам подпол-ковник Чиж, не просил, а приказывал никому не высовываться в коридор, сохранять абсолютное спокойствие и закрыться изнутри на ключ.
– Ну, а если захочет войти, – недоуменно пожал плечами мой непосредственный начальник, главный инженер полка майор Паляница.
– Никаких «если», – как топором отрубил Чиж и пулей вылетел из кабинета.
В окно мы видели, как из одной машины легко выскочил Покрышкин (все сразу узнали его) и направился к деревянным ступенькам штаба. За ним, стараясь не отстать, следовала вся свита командующего, в числе которой был и полковник Гулаев. Высокий, несколько суровый на вид, в длинной генеральской шинели до пят, воздушный ас, трижды Герой Советского Союза пробыл в штабе недолго и примерно через час уехал. Его отъезд опять-таки наблюдали из окна. А в наш кабинет он так и не зашел.
Но продолжим рассказ о нашем земляке. О Николае Дмитриевиче я был высокого мнения, держался с ним чуть ли не на короткой ноге. Хотя дистанция в званиях у нас была, как сказал бы Скалозуб из комедии Грибоедова «Горе от ума», огромного размера. В полку у нас, может, и не любили его, но уважали многие. Мне же в гневе Николая Дмитриевича довелось видеть лишь однажды. К нам в полк на переподготовку прибыли «старики». Звание у каждого не ниже сержанта. И вот они как-то шли на обед в столовую, без традиционной песни, вразвалочку.
– Почему без песни и без строя?! – гневно спросил комдив. – Кто старший?
Вперед выступил рыжеусый старшина:
– Я, товарищ полковник!
Оказавшись рядом, Гулаев мигом сорвал с его плеч погоны и сказал громко: «Рядовой!». Затем, отправив всех назад в казарму, он проследил за их возвращением в столовую. Теперь уже «старики» шли четким строем и с песней. Далеко за пределами части слышались слова: «Солдаты, в путь, в путь!..».
Да, любил армейскую дисциплину командир…
С тех памятных времен прошли многие годы. Я демобилизовался. Закончил университет, стал журналистом. Работал в редакции газеты «Вперед», а затем, по иронии судьбы, оказался в Аксае.
Шел 1965-й год. Жизнь набирала обороты. О Гулаеве я уже как-то не вспоминал. Захлестнула гражданка, новые заботы. Но однажды, оказавшись на площади Героев, мне захотелось спуститься к Дону. Прохожу мимо и вижу на пьедестале чей-то бронзовый бюст. Заинтересовался. Узнал. Да это же мой бывший командир дивизии! Совсем молодой и в шлеме. Сразу же вспомнил слова ефрейтора из Ярославля: «Да это же Гулаев. Из Ростова. Там его и бюст стоит». Немного ошибся служивый: оказывается не из Ростова, а из Аксая. В армии по областным центрам счет ведут…
Эта очередная встреча с героем-летчиком на его родине лишила меня покоя. Захотелось снова увидеть и поговорить с ним на равных, без примеси армейской субординации, или взять в конце концов для газеты интервью. И, спустя несколько лет, мечта моя сбылась. Как-то, поднимаясь по крутому склону, я заметил на площади Героев около десятка легковых автомашин, и тут же мелькнула шальная мысль: «Гулаев!». Да, это был он, и я со всех ног ринулся к нему. Но меня сразу же грубо остановили сотрудники КГБ: куда, мол, лезешь с суконным рылом в калашный ряд?
– Из местной газеты «Победа». Я хочу взять у Николая Дмитриевича интервью, – оправдывался я.
Заметив некоторое заме- шательство, Гулаев, теперь уже генерал-лейтенант авиации, спросил коротко: «Что там у вас происходит?». И добавил категорично: «Пропустите, это же мой земляк!».
Меня пропустили. Гулаев, здороваясь, крепко пожал мою руку.
– Чего хочешь?
– Ничего особенного. Всего лишь интервью для местной газеты. Я ведь служил в вашей дивизии в Ярославле. Там мы и встречались часто…
– А черт его знает, где я только не служил! – довольно резко ответил он и уже мягче: – А тебя припоминаю. Дежурный по штабу у Чижа? Но интервью не дам. Не люблю это дело. Лучше пойдем фотографироваться. И он под руку увлек меня к своему бюсту, поставил рядом с собой. К нам присоединились военные, сотрудники КГБ. Защелкал фотоаппарат.
– А как же потом с фото? – поинтересовался я на прощание.
– Не переживай, мои люди пришлют.
А отойдя на несколько метров, поймал себя на мысли: да как же это его люди пришлют, если у меня никто не спросил ни адреса, ни фамилию? Но возвращаться не стал. Все уже рассаживались по машинам…
Последний раз я видел Николая Дмитриевича в феврале 1983 года в день празднования 40-летия освобождения Аксая от фашистов. И опять на площади Героев. Ветераны после торжественной части ждали автобус. Среди них был и Гулаев, генерал-полковник. Он первый подошел ко мне, поздоровался, поздравил с юбилеем, спросил хитровато:
– Опять интервью брать будешь? Давай я тебе свой автограф лучше дам.
Взял у меня блокнот и написал быстро: «Дорогому земляку Белодедову Анатолию Павловичу!». Поставил дату и расписался дважды.
– Это я для убедительности, – пояснил.
Потом заметил стоящего неподалеку генерал-лейтенанта Дорошенко, освободителя Аксая, и, видимо, войдя во вкус, и ему посоветовал дать мне автограф. Тот охотно согласился. Так неожиданно я стал обладателем сразу двух собственноручных памятных подписей, прославивших аксайскую землю людей.
И еще спросил я у Гулаева, почему он написал в автографе «земляку», ведь родина-то моя не здесь, а в Донецкой области, на что он без колебания ответил:
– Живешь в Аксае, значит – земляк.
И я не мог ему возразить. К площади подкатил служебный автобус. – Поехали, – вдруг предложил он. – Там и поговорим. Я вежливо отказался.
Не захотел быть лишней обузой в застолье. Да, впрочем, он и не настаивал.
Из воспоминаний Анатолия Белодедова


















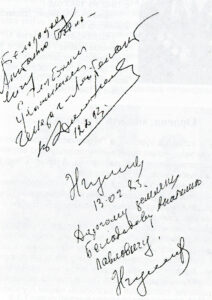



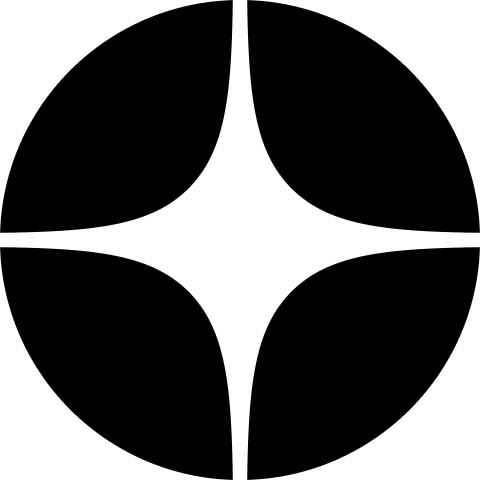

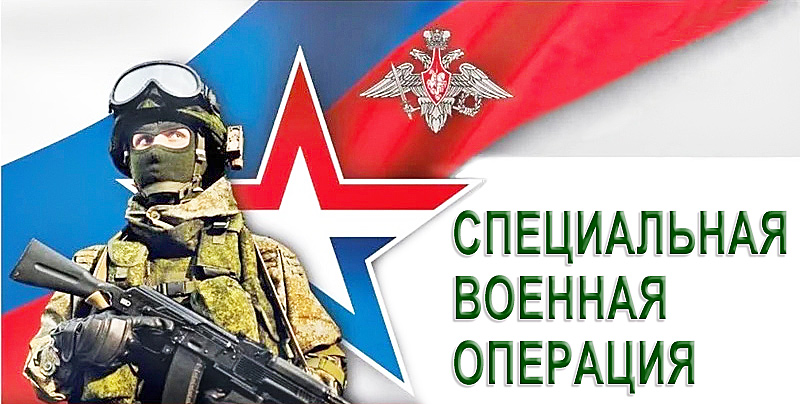


Отправить ответ
1 Комментарий на "Мои встречи с Гулаевым: журналист Анатолий Белодедов вспоминает о нашем земляке"
интересно было почитать. такой материал,рассказывающий сквозь годы о том непростом времени. словно попал в беседу, где говорят о важных событиях в жизни, будто вот они — рядом со мной